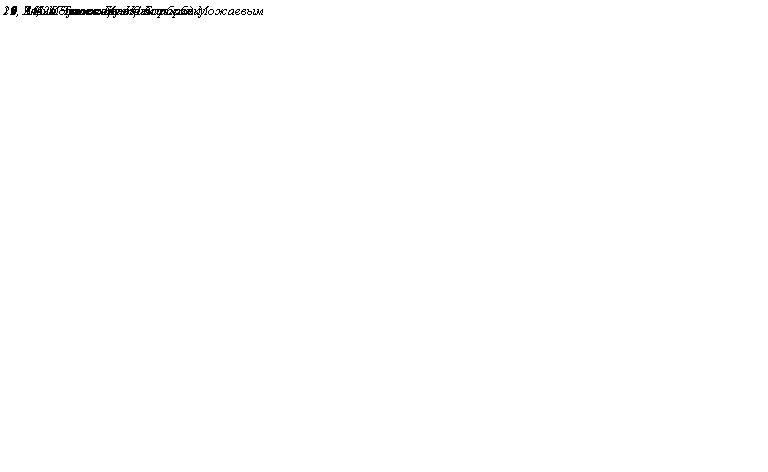|
Е.В. Семёнова. Честь имею! (Памяти Б.А. Можаева)
5. Таганка
Борис был очень общительный человек, блистательный рассказчик. Такой вроде простой... хотя у него была и выправка всегда - «Честь имею». и поражало меня в Борисе, сколько он знает. Сколько он наизусть цитирует стихов, прозы! Какой-нибудь Мельников-Печерский, Амфитеатров, эмигранты, Зайцев, - я уж не говорю, Бунин, столпы - ушедшие писатели, он и их знает. Поэзию... Как он Библию знал хорошо... Вот это удивительно, что вроде такая внешность - мужичок. Хотя у него всегда офицерская косточка была. Ю.П. Любимов
Юрий Любимов неслучайно оказался в тот день вместе с Борисом Андреевичем. Долгое время Можаев плотно сотрудничал с театром на Таганке. Фактически, этот театр стал целой вехой в биографии писателя. Л.П. Делюсин вспоминает: «Борис был очень увлечен Таганкой. Близко сдружился со многими актерами, особенно с Валерием Золотухиным и Владимиром Высоцким. А к Любимову испытывал огромную любовь. Войдя в состав Художественного совета, не пропускал ни одной премьеры, бывал на генеральных репетициях, старался, как мог, помочь Любимову в сражениях с чиновниками от культуры. Их пытались стравить. Подходили к Любимову и спрашивали, как вы могли связаться с таким антисоветским писателем, а потом к Можаеву – как вы могли связаться с таким антисоветским режиссером? Это дешевое стравливание никаких результатов не давало, только укрепляло их дружбу. Редкие из спектаклей, Которые ставил Юрий Петрович, не натыкались на запрет начальства. Тогда Юрий Петрович писал Брежневу письма, в которых доказывал, что спектакли его не носят антисоветского характера, а наоборот помогают партии преодолевать пороки партчиновников. Б.А. принимал активное участие в составлении этих писем. Иногда такие письма помогали сломить сопротивление чиновников, но с «Живым» этого не случилось. «Кузькин» на Таганке это был взлет. Один режиссер сказал: Юрий Петрович столько вложил в этот спектакль, мне бы на 10 спектаклей хватило. И как артисты играли: как Золотухин играл Кузькина, как Зина Славина Авдотью, Матюков – Антипов, покойный Колокольников, Шаповалов… Блестяще играли. Там была одна сцена – Ю.П. ее потом выбросил – когда Кузькин идет с вязанкой хвороста и замерзает в дороге – это удивительная сцена, как из Гойи, из его рисунков, она ушла потом, трагическая была сцена… А когда понадобились частушки, Б.А. притащил столько, что на одних частушках можно было целый спектакль ставить…» Спектакль «Кузькин», о котором идёт речь, был инсценировкой повести Бориса Можаева «Живой», или, как переименовали в «Новом Мире», «Из жизни Фёдора Кузькина». О публикации своей повести Борис Андреевич узнал в родном Пителине. «Мы уже неделю были в лугах на сенокосе, помогали моему двоюродному дяде, который выведен в рассказе под именем Семёна Семёновича. Кстати, темперамент Фёдора Кузькина, его острое бойкое слово были взяты отцом именно с брата. Он – один из прототипов Живого… И вот. Когда я приехал из лугов в Пителено на вечернюю гулянку со сверстниками, вдруг доставили телеграмму. Я знал, что отец очень ждёт её. Я тут же оседлал своего синего «Орлёнка» и припустил в луга за десять вёрст. Только голова среди трав мелькала! Так была получена отцом телеграмма от Твардовского, где тот извещал, что повесть «Живой» под другим названием поставлена в номер и идёт в печать. Тем и закончилась наша поездка и гощение на родине. Начиналась бурная жизнь повести «Живой», ставшей во многом ключевой для литературы, театра и всей в целом общественной жизни последней трети двадцатого века…» - вспоминает А.Б. Можаев. «Ещё живой крестьянин после стольких лет колхозного рабства» - так ёмко определил суть героя Солженицын. «Можаеву выпало сказать о воле к независимости. «Живой» создавался на подступах к роману, и зарево замысла о подавленном восстании 30–го года над этой повестью нависает. Достоинство, изобретательность и упорство, с какой недавний фронтовик Кузькин, желающий прокормить пятерых детей и свою Авдотью, всякий раз находит честный — но помимо колхоза — заработок и всякий раз колхоз и район чинят ему расправу — в истории этой закодирован простой крепостной сюжет. Закодирован прямодушно и с озорством совершенно бесстрашным. Балаган тут несет в себе историческую драму, и Театр на Таганке, перенеся повесть на сцену, эту чисто можаевскую оптику сделал внятной всем…» - пишет Инна Борисова. Спектакль запрещали ещё до премьеры целых пять раз, тем не менее Любимов сумел показать его на «общественных просмотрах» немалой части столичной интеллигенции. Валерий Золотухин, исполнитель роли Кузькина рассказывал в интервью журналу «Россия» в 1997 году: «Единственно, что я помню, что это был один из тех прогонов, когда яблоку негде было упасть. Когда я вышел, что меня просто поразило — я никогда не видел столько золота, да еще волнение, свет, я был просто ошарашен... от этих медалей, орденов, я увидел такое количество золота на один квадратный сантиметр наверное впервые. Начался спектакль, и он шел потрясающе. На просмотрах было обычно ну 150–200 человек, это одна реакция. А здесь было 600 человек — помню смех, шум в зале, очень горячий приём, аплодисменты. И я готовился, конечно, въехать на белом коне. Когда началось обсуждение, я сел на сцене, как победитель. Я был, как Кузькин, в гимнастерке, как он на суде, начистил медали... Но тут всё очень быстро пошло наоборот. Помню недоумение, растерянность на лицах Любимова и Можаева. Такого подготовленного, массового, мощного натиска, когда на белое говорится — чёрное, когда люди смеялись, плакали сначала, а потом говорили нечто совершенно заготовленное, вспоминая про свой партбилет... это была чудовищная акция, потому что если раньше спектакль закрывали сами чиновники, то теперь они подготовили мнение народа. Руками народа закрывался спектакль «Живой», руками специалистов по сельскому хозяйству. Спустя три–четыре года меня пригласили на один племенной завод, в Подмосковье. Попросили выступить в профилактории, спеть старушкам «Ой мороз, мороз...» Было человек 50, стол накрыт, а одно место свободное. Через пятнадцать минут появляется директор. Депутатский значок, Герой Соцтруда. Он мне говорит: "А ведь мы с вами знакомы. Мы однажды встречались". — Где? — "Я смотрел у вас очень хороший спектакль." Тут до меня доходит, что он один из тех, кто выступал на обсуждении "Кузькина". Самое ужасное, их собрали за две недели, поместили в гостинице, лекции читали, объясняли, какие слова говорить, какие мотивы... а потом написать в Политбюро, чтобы не Дёмичев и компания, не министерство культуры, не критика, а кто понимает в сельском хозяйстве закрыли спектакль наглухо. Я говорю этому директору: "Как же вы сейчас так хвалите этот спектакль, а тогда?.." — "Да, спектакль был хороший и нам об этом сказали, но добавили, что именно поэтому его нельзя показывать. Всю правду народ знать не должен"». «Борис Андреевич рассказывал, что Фурцева очень негодовала во время спектакля и порывалась уйти после конца каждого действия, - вспоминает В. Степанов. - Ее чуть ли не за руки усаживали в кресло, обещая, что конец будет благоприятный. Спектакль, конечно, запретили до следующего министра культуры, которым стал Демичев. Демичева привезли на просмотр через несколько лет, и он сказал, что надо почистить спектакль, а так он ничего. Но надо пригласить деятелей самого сельского хозяйства, чтобы они оценили, насколько спектакль отражает настоящую реальную жизнь деревни. Оба спектакля мне довелось посмотреть. Спектакль меня совершенно поразил актерским исполнением. Мне всегда казалось, что Театр на Таганке такой элитный, и никто там понятия не имеет, что такое деревенская жизнь, но деревенскую жизнь они представили так ярко, с такой подлинной достоверностью, что я был буквально ошеломлен. Я не только смотрел на сцену, но смотрел и на Бориса Андреевича. Мне запомнилось, с каким детским, прекрасным, искренним простодушием он следил за ходом спектакля, за игрой актеров, будто даже и не он сам автор этой пьесы, не он сам все это придумал. А второй спектакль мне запомнился другим. Было обсуждение, в котором участвовало несколько знатных председателей колхозов, Героев социалистического труда, людей прославившихся своими делами в сельском хозяйстве. На спектакле все дружно и искренне совершенно аплодировали тому, что представлялось на сцене, но когда спектакль закончился и началось обсуждение, люди, которые только что хлопали и в сторону Бориса Андреевича, как автора пьесы, и в сторону Любимова, как постановщика спектакля, начали, опустив глаза, лжесвидетельствовать, говоря, что спектакль все-таки очерняет действительность, что она не такая мрачная и что во всю свою жизнь ничего подобного в деревне не видели. Борис Андреевич, как мне показалось, слушал, опустив глаза; ему стыдно было за это лжесвидетельство людей, которые струсили и хотели выполнить какой-то определенный социальный или партийный заказ. Единственный человек, который тогда не побоялся откровенно заступиться за спектакль Бориса Андреевича, был Михаил Михайлович Яншин. Почти наизусть помню коротенькое выступление. Он говорил так: «Я человек старый, я давно не был в настоящей деревне, иногда я смотрю про деревенскую жизнь в очерках, но я свидетельствую всей своей прожитой жизнью, что все, что показано было сейчас на сцене, истинная правда». Ю.П. Любимов рассказывал: «Он замечательно вел себя, Борис, но он наивный был в чем-то человек. Он меня покорил, когда Фурцева кричала, и никого в зале не было, и какой-то молодой чиновник вскочил и начал говорить всякие гадости, вдруг встал Можаев - сидели все чиновники, замминистра и так далее - мало их было, человек пятнадцать, пустой зал, никого не пустили, даже композитора не пустили Эдисона Денисова. Вознесенский пробрался, но она сказала: «А вы уж сядьте и помолчите». Он, бедный, заткнулся, как говорят на молодом сленге. И вот когда этот чиновник молодой стал подсюсюкивать мадам и стараться нас клеймить всякими словами: антисоветчики глумятся над народом... Тут Можаев вскочил и сказал: «Ай-яй-яй! Сядьте, молодой человек!» И Кате (Е.А.Фурцева - Авт.): «Неужели вам, министру, не стыдно, кого Вы воспитываете - жалких карьеристов!» Тот: «Как Вы смеете!» - «Сядьте, я вам говорю!» И был у них шок, и минуты две они в растерянности слушали. Потом спохватились, начали кричать на нас. Катя закричала: «Вы думаете, с этим «Новым миром» вы далеко уйдете?» - там на сцене висел на березках журнал «Новый мир», в котором была опубликована эта повесть Можаева. А я не сообразил, сказал: «А Вы думаете, что вы со своим «Октябрем» далеко ушагаете?» А она поняла, что я говорю это про Октябрьскую революцию, а не про журнал кочетовский. И тут она закричала: «Что же это такое! Я сейчас же иду докладывать Генеральному секретарю...» Побежала, манто упало... Она все-таки была дама. Потом она кричала там уже, внизу - я не пошел ее провожать, и пальто не подал, которое упало, рассердился очень. И она кричала: «Нахал какой! Он даже не проводил до машины, негодяй»! Так что она все-таки по сравнению с химиком Петром Нилычем... (Демичевым) Тот так милостиво сказал о спектакле: «Пусть идет». Потом приехал в Министерство - и запретил. Дали нам 90 поправок, потом 70, мы чего-то там делали, потом мы попали к Зимянину - там был крик. Сперва я был один, потом уговорил Зимянина, чтоб он вызвал Можаева. Потому что он катил бочку на Бориса: «этот закоренелый антисоветчик, матерый подрывник наших основ марксистско-ленинских»...» Премьера «Кузькина» состоялась на Таганке лишь спустя 21 год… Была запрещена к постановке и трагедия Бориса Андреевича «Единожды солгавши». Зато не без активной помощи Можаева удалось отстоять спектакль «Деревянные кони» по Абрамову. Именно Борис Андреевич свёл Абрамова, до того скептически относившегося к Таганке, с Юрием Любимовым, и вскоре писатель изменил своё мнение о театре… Борис Можаев много работал в кино. Правда, большая часть написанных им сценариев так и не были экранизированы, но даже за них писатель получал 25% гонорара авансом, как обычно практиковалось на «Мосфильме». Это был основной доход. Тем более, после «Живого» перед Борисом Андреевичем частично закрылась возможность публикации как очерков, так и литературных произведений. Правда, некоторые фильмы всё же были сняты и увидели свет. Самый знаменитый из них – «Хозяин тайги» с В. Высоцким и В. Золотухиным в главных ролях. Борис Андреевич сам был очень артистичным человеком. Мог очень точно скопировать какого-либо человека, любил пошутить. Это помогало в общении в высоких кабинетах. Можаев пускал какую-нибудь цитату из Ленина или брежневского доклада, подходящую к случаю, а когда чиновники начинали негодовать, невозмутимо сообщал им первоисточник… Но «…оказалось, что вся эта огромная энергия, активность и связи Можаева – всё равно не вписывались в нашу тогдашнюю действительность. Он всё равно не вписывался, потому что сам был слишком живым для этого. У него вообще было замечательное сочетание юмора, артистизма и симпатичной хитрости – не той хитрости, чтобы себе урвать, а хитрости в смысле артистичного и художественного подхода к действительности. Он часто играл. Играл, что ему легко, когда ему было трудно. Играл и шутил, когда ему было не до шуток. Это всегда в нем чувствовалось. Кроме того, в нем чувствовалась огромная сила – и художественная, и художническая, и просто сила. У меня впечатление о нем – как о человеке очень надежном. Я всегда видела в нем союзника, помощника, защитника. В этом смысле у меня к нему абсолютно стопроцентное отношение. Он никогда не увиливал, не уклонялся от трудностей, никогда не хитрил по-крупному, тут манеры было больше, но это всё были небольшие хитрости. Никогда его хлопоты за или против не были интригой, это всегда было честной игрой. И время показало, что эти игры он далеко не всегда выигрывал, как казалось по его рассказам, когда он говорил: «я пришел к министру и сказал...», а результат получался совершенно другой. Нет, своим он для них не был. Он не мог их переиграть, потому что для этого надо было играть совсем по другим правилам». (19) Громогласный, быстрый в движениях, с офицерской статью – Борис Андреевич был очень яркой, неординарной личностью. Неординарны бывали и поступки его. «Его все ругали – зачем черную «Волгу» купил? А он: спросят, кто приехал – из обкома, скажут. Он ее просто облизывал, эту машину. Едем с ним, вдруг по дороге камешек какой-то по крылу ударил. Какая была трагедия – попортили черную «Волгу»! Шоферским искусством ему помогала овладеть Людмила Васильевна Целиковская. «Ну что ты, как корова по льду, едешь» скажет. Он сперва плохо водил, а она водила замечательно. Она к нему с большой любовью относилась. Иногда ругала его. Но и он ее любил…» - вспоминает Лев Делюсин. Жене Бориса Можаева Мильде Эмильевне достался в наследство от отца хутор Уки на берегу Рижского залива. Время от времени Борис Андреевич наезжал туда, приглашал гостей. И.А Делюсина вспоминает, что Можаев до мелочей занимался всем хозяйством: «Он во все влезал. Я плохо приготовила – он вмешается: у тебя гречневая каша, как шрапнель. Или чистим мы с его дочкой Анечкой грибы. Червяк особенно рыжик любит, но рыжик один из самых вкусных грибов. А мы выбросили все рыжики, которые он принес. Он увидал – идиотки, кричит, что вы делаете?! Забрал все рыжики, надел очки, сам стал чистить. Он был очень хлебосольный и гостеприимный. Сам научился прекрасные вина делать. И очень разные. Главное – из красной смородины. Из черной тоже делали. Из малины. Я больше всего любила из ревеня. В первый год, когда мы уезжали, он дал нам с собою целый бочонок. Мы не хотели брать – заставил. Он делал вино по старым латышским рецептам. А однажды – тоже мы уже собирались уезжать – рыбаки предлагают огромного лосося. Как отказаться… а все мы уже собрались. На машинах. Как он чистил этого лосося, с каким знанием дела. Разложил по кастрюлям, посолил. Было это необыкновенно вкусно. А угрей как он делал…» Ей вторит и Л.П. Делюсин: «В нашем хозяйстве он был добытчик. Женщины за продуктами почти не ездили. А он поедет – обязательно что-нибудь вкусное привезет. Знал какие-то мелкие магазинчики, хутора… добыча продуктов, поездки по магазинам – тут уж мы вместе с ним ездили. Ехать с ним на машине одно удовольствие, потому что, помимо рассказов, он еще прекрасно пел. Сидел за рулем и пел старинные романсы – голос у него был хороший, слух прекрасный. Там, на хуторе Уки, открылась нам большая деликатность Бориса Андреевича по отношению к тем, кто рядом с ним живет. Я писал на хуторе диссертацию, и он не давал меня отвлекать, хотя сам в это время работал над сценарием. Сценарий, насколько я помню, был антилысенковский, и он не пошел. Огромная любознательность у него была к тем людям и к тому району, где он жил, хотя в те годы он был поглощен романом. Это были 69-й год, 70-й – до 75-го года мы ездили туда. Он был поглощен романом, но старался, поскольку жил в Латвии, посмотреть, как работают латышские крестьяне, как работает соседний совхоз. Он не мог уйти с головой только в свой роман. Ему до всего было дело. Он видел непорядки, разговаривал с работниками совхоза, с партийными работниками. То, что он наблюдал в своей Рязанской области, было и здесь, в Латвии. Он приезжал из совхоза, где, как он говорил, «коровы землю едят», совершенно разъяренный и вместо романа садился писать очерк…»
6. «История сорванного созидания»
Более всего железная пята бюрократии давила как раз их, людей, отмеченных трудолюбием и наделенных волей к независимости. Независимость хоть слово–то и неважное, да вещь больно хороша, как любил говаривать Пушкин. Именно от того, как будет складываться судьба нашего земледельца, всё и зависит: либо мы обретем в полной мере равноправие в этом мире подлунном и с высоко поднятой головой пойдем по пути, начертанному нам свыше, либо так и останемся посреди дороги с согбенной спиной да с протянутой рукой в жалкой позе вечного просителя. Б.А Можаев. Какое оно, счастье на Руси?
Ещё в молодые годы зародился у Бориса Можаева замысел романа о Пителинском восстании. Планом его он делился с Александром Солженицыным во время их поездки на малую родину Бориса Андреевича: «Сперва цветущая деревня Двадцатых годов, потом коллективизация и — отметный крестьянский мятеж, который в Пителинском округе произошел в Девятьсот тридцатом». Реализован этот замысел был лишь в 78-80-х гг. «Крестьянский мятеж в романе Можаева — это история сорванного созидания, парализованных сил, извращенных энергий. Роман движется знанием, тоской и верой, что сил много, а ходу им нет. Можаев пишет свободу как возможность открытого созидания, как труд и деятельность, которые сами ищут свой путь и определяют плечо рычага. Трагедия мятежа это трагедия деятельных сил, вынужденных истреблять себя в мятеже. В бунт втравливают, в бунт загоняют, как в западню», - пишет о романе Инна Борисова. Есть в романе Можаева что-то от «Бесов» Достоевского. Должно быть, неслучайно столь подробно вспоминается в нём это произведения Фёдора Михайловича. Вспомним один фрагмент из него: «В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. (…) Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки "передовых", которые действуют с определенною целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что впрочем тоже случается. (…) Солиднейшие из наших умов дивятся теперь на себя: как это они тогда вдруг оплошали? В чем состояло наше смутное время и от чего к чему был у нас переход - я не знаю, да и никто, я думаю, не знает - разве вот некоторые посторонние гости. А между тем дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать. Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся жидишки, хохотуны, заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностию своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу; генералы, перебежавшие в адвокаты; развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос, - все это вдруг у нас взяло полный верх и над кем же? Над клубом, над почтенными сановниками, над генералами на деревянных ногах, над строжайшим и неприступнейшим нашим дамскими обществом…» Не схожие ли явления наблюдаются в деревне накануне раскулачивания? Крепкие, разумные, деятельные мужики, хозяева вдруг оказались отодвинутыми в сторону, объявленными «кулаками» и «подкулачниками». И не в силах они противостоять этой немыслимой, страшной волне. Одно за другим разоряются богатые хозяйства, одна за другой высылаются лишённые всего имущества семьи, оскверняется церковь, арестовываются невинные люди, шельмуется цвет крестьянства, мужики, названные богатеями и кулаками за то лишь, что умели работать и своим горбом, своим потом наладили своё хозяйство. И большинство смотрят на происходящее, разом умолкнув, пригнув головы, боясь, что завтра эта беда коснётся их. Люди стали бояться друг друга, страх парализовал даже самых стойких мужиков. И кто же начинает заправлять всем? Звонкие комсомольские вожаки Сенечки Зенины, вчера ещё разыгрывавшие в лотерею гармошку, не имеющие за душой ничего, кроме нахальства, зависти и полного отсутствия совести, лодыри Якуши Ротастенькие и пьяницы Гредные, пришлые Ашихмины, карьеристы Возвышаевы… Те, что были никем, сделались всем. Пустоплясы стали довлеть над серьёзными и опытными руководителями, тунеядцы, пустобрёхи, «которые хотели бы эту землю ложками хлебать, словно дармовую кашу, да пузо на печке греть, а не работать на этой земле до седьмого пота», получили право диктовать волю крепким мужикам, перед которыми лишь недавно заискивали. Партийные карьеристы соревнуются друг с другом в усердии, боясь одного: упрёков в недостатке оного, доносов более ретивых подельников, обвинений в недостатке жёсткости и бдительности. Деревенская беднота, получив законное обоснование самых низких своих страстей, не желающая работать, алчет поживиться чужим добром. И всё это «взяло полный верх» над русской деревней, над русским мужиком-землепашцем. Взяло и возжелало каждого втянуть в своё чёрное дело: чтобы каждый приложил руку к разорению дома своего ближнего, чтобы каждый проголосовал за расправу над «вредителями», угодившими, прикалывая газету к стене в клубе, кнопкой в глаз товарища Сталина. Это ли не рецепт Петруши Верховенского – «повязать всех кровью»? (Надо заметить, что «отец всех народов» сумел виртуозно реализовать этот рецепт в масштабах целой страны путём коллективных писем и всеобщего доносительства…) Начинается кровавая спевка, и ничто оказывается неспособным остановить её. Знамя мятежа поднимает Фёдор Звонцов. Но черно на душе у него. Презирает он тот народ, который подстрекает к восстанию, жаждя лишь отмщения за свою обиду. Этот «народный заступник» готов изрубить любого, кто встанет у него на пути. Рубил он казаков в боях, расстреливал, вызываясь добровольцем, пленных офицеров, побывав в плену у них и воспылав с той поры к ним лютой ненавистью, а пришёл час - готов стал и советскую власть рубить. Ничего нет святого у Звонцова. Собственный двор и скотину спалил он, чтобы никому не достались. А пришлось бы – и людей, за ним пошедших, обрёк бы на смерть, потому как они не соратники ему, а средство для достижения своей цели. В конечном итоге, так и поступит Звонцов – сбежит от расправы, оставив ей всех, кого подбил на мятеж… И противостоит этому образу величавая фигура Чёрного Барина.
«- Нет, Федор, в таком деле я тебе не помощник, - сказал Черный Барин, глядя на свои руки, сложенные крестом на столе. - Сжечь все, что сам обтесывал, выкладывал по бревнышку... А сад, питомник? Ежели спалить дом, и сад погибнет. Кто за ним тут будет присматривать? - Эх, голова два уха! Да ты что, спишь? Не до поросят, когда свинью палить тащат. С самого голову сымут, а ты об саде заботишься! - Я не бессмертный. Рано или поздно - все равно помру. А сад пущай стоит. Это живое дело. Дерево, оно от бога. И само по себе ценность имеет, и людям на радость. - Истинно, Мокей! Право слово, истинно! - сказал Сидор. - О, кулугуры упрямые! - выругался Звонцов. - Их, как баранов, на убой поведут, а они заботятся, чтобы хлев опосля них в запустение не пришел. Эх-х вы, агнцы божие! Оттого и бесы разгулялись, что такие вот беззубые потачку им дают, нет чтоб по рогам их, по рогам. - Он стукнул дважды кулаком по столу. - Да все пожечь, так чтобы шерсть у них затрещала... Глядишь - и провалились бы они в преисподнюю. - Нет, Федор, подымать руку на людское добро - значит самому бесом становиться... - О душе-то, о душе подумай! - сказал опять свое Сидор. Мокей Иванович тоскливо взглянул на брата и вздохнул, а Звонцов крикнул в лицо Черному Барину: - Значит, все им отдать? Передать из рук в руки? Так лучше, да? - На все воля божья, - ответил тот. - Но руки подымать на свое добро не стану. Грех. - Ну, ну... Давайте, топайте в рай в сопровождении милиционера. - Звонцов встал, поднял кнут, щелкнул им в воздухе и выругался: - Так иху мать! От меня они не разживутся. Пойду - и все пущу на воздух. - А ты об жене подумал? - спросил Мокей Иванович. - Сам в лес, а ее куда? - К сыну ее отправил в Нижний. - Звонцов опустил голову, помолчал. - Поди, до них не доберутся? - Потом махнул рукой: - А, всем один конец. Я пошел... - Спаси тебя Христос! - Сидор занес руку с двоеперстием. Но Звонцов отстранил его крутовищем: - Да пошел ты!.. - И вышел, хлопнув дверью…» (20)
Очень чётко через конкретных персонажей показано в романе противостояние двух противоположенных укладов, образов мыслей. Пустоплясам и лодырям с их завистливым желанием поживиться чужим трудом заработанным добром противостоит Андрей Иванович Бородин, тип подлинного хозяина земли русской, трудолюбивого, мудрого и ответственного. Именно эти черты русского человека – трудолюбие, ответственность, инициативность – и выхолащивала всеми подручными методами советская власть. Оно и понятно: стадом управлять проще, нежели народом. А соль любого народа, соль земли не пьяная голытьба, а как раз ответственные, грамотные и предприимчивые работники, знающие цену себе и окружающим, независимые от партийных установок, даваемых неучами и головотяпами. Это они веками созидали Российское государство, строили и укрепляли его. Именно на них призывал делать ставку П.А. Столыпин: на сильных и трезвых, а не на пьяных и слабых, коих в деревне меньшинство. Таковых, действительно, было меньшинство в деревне. Но это меньшинство под руководством «народной власти» одолело большинство, вытравило ядро русской деревни, опустошив её и доведя до того, что пьяное и слабое меньшинство сделалось её основой. Какая сила сотворила это? «Сила эта сатанинская – и называется она властью без контроля и без предела. Да, да… Только сатанинская власть может выдавать за истину гнусную ложь… И главное – требовать веры в правоту и необходимость своего дела, т.е. оправдывать геноцид. И во имя чего? Во имя всё того же оправдания голого насилия, служащего якобы справедливому устроению мира? Это какое-то чёртово колесо, давящее народ и приводимое в движение самим же народом. Безумие!» (21) Власть отщепенцев знала, на кого опереться, знала своих… «Мужичья чума», по выражению Солженицына, выкосила наиболее сильных крестьян, а остальных лишила воли. Воля эта была не волей бунтарей, не разгульным разинским своеволием, распаляемым тем же Звонцовым, а простым желанием независимости, самостоятельности.
«- Никуда я и ни за что не уеду отсюда. Пусть всё возьмут — дом, корову, лошадь... Пусть землю обрежут по самое крыльцо... В баню переселюсь — и то проживу. Прожи–ву–у! Лишь бы руки–ноги не отказали, да ходить по воле, самому ходить, по своей охоте, по желанию... Хоть на работу или эдак вот по лугам шататься, уток пугать. Лишь бы не обратали тебя, да по команде, по–щучьему велению да по–дурацкому хотению не кидали бы из огня да в полымя. А всё остальное можно вынести...» (22)
Борис Можаев писал, что в его романе все герои второстепенны. И всё же два из них не могут считаться таковыми, потому что являются выразителями той истины, которая обречена была уничтожению. Наряду с Андреем Бородиным таковым является Дмитрий Иванович Успенский, выступающий уже идейным оппонентам партийных доктринёров. Если Бородин опровергает их, основываясь на своём опыте, опровергает на земле, то у Успенского в ход идут история, философия и литература. Он призван разъяснить суть творящегося именно в историко-философском контексте, выявить закономерность происходящих явлений и глубинный смысл их.
«- Уклад жизни, быт и особенно традиции формируют национальный характер, - сказал Успенский и посмотрел на Ашихмина тем оценивающим взглядом, когда смотрят на противника, чтобы решиться, спорить или нет. - А национальный характер есть главная сила или, если хотите, центр тяжести нации. Без национального характера любая нация потеряет остойчивость и распадется как единое целое. - Ах, вот как! - подхватил Ашихмин, весь оживляясь. - Вот вы и попались! Национальный характер - фикция, вымысел. Его выдумала буржуазия, чтобы одурачивать пролетариат. Удобнее эксплуатировать народ в эдаком трогательном единстве национальных интересов. Ах, мы русские! Мы одним миром мазаны. У нас одна задача, одна цель, одно отечество. Вы любите свое отечество, свой уклад, свою историю, свой язык, свои города и веси, а мы вас будем потихоньку околпачивать, заставлять вас работать не столько на себя, сколько на нас, блюстителей этого уклада, да языка, да любви к отечеству. А? Что?.. У пролетариата нет отечества! Его отечество - всемирная революция. Его цель - объединение всех языков в единую семью. А все эти косопузые Рязани да толстопятые Пензы мешают такому объединению своей приверженностью к домостроевщине, к мещанству, к патриархальной жизни. Вот почему надо разрушать эти затхлые миры и выходить на простор интернационального общения. А? Что? Как вам это нравится? - Национальный характер вовсе не мешает интернациональному общению, - холодно возразил Успенский. - И при чем тут эксплуатация? Одно с другим не связано. Разве английская буржуазия, к примеру, эксплуатирует только англичан? И если вы считаете национальный характер фикцией, то скажите: разве англичанин ничем не отличается от немца или от француза? - При чем здесь англичане и французы? - крикнул Ашихмин. - Да все при том же, - повысил голос и Успенский. - И русская буржуазия не одних русских пролетариев эксплуатировала. И нечего в этом винить русский уклад жизни или русский национальный характер. И то и другое помогло Древней Руси окрепнуть и выстоять в тяжелой борьбе, объединиться в могучее государство. И все это потому, что Русь сумела раскрыть смысл национальной идеи во вселенском православии. Вся наша история, вся живая жизнь говорят об этом; наряду с подвижничеством святых иноков на Руси канонизировались подвиги князей и героев, то есть вождей народных. Святость веры стояла рядом со святыней национальной жизни. А вы пытаетесь призывом к интернациональной солидарности отрицать национальный идеал. И напрасно делаете. Немного сыщете вы доброхотов на такое дело среди толковых русских людей. Православие действовало умнее вас, тоньше. Не к смешению языков призывало Писание, а к расчленению их. И каждый язык, то есть каждая нация, с ее культурой, с ее духовным обликом, - бессмертна, ибо есть творение божье. А все вместе нации - суть хор ангелов, воспевающих хвалу богу. Вот как ставилась вселенская идея православия, без обид и притеснений отдельных наций. Да, да! И без привилегий какой-нибудь из них в отдельности. "В церкви христовой нет ни эллина, ни иудея". Все равны, не смешаны в безъязыкое стадо, а каждый свят в своем национальном облике. - Вот вы и скатились к явной апологетике религии. Старо! Мы боремся за прочность государства, за обновление, а вы за возврат религии! - крикнул Ашихмин. - Вы боретесь за прочность государства? Так как же можно стремиться к единству и прочности государства, выбрасывая краеугольный камень из фундамента его - национальный характер, национальный идеал? (…) - Мы вовсе не отрицаем национальный идеал. Наоборот, мы поддерживаем национальное самосознание всех народностей, входящих в Советский Союз. - Ну, а если русский человек гордится святыней национальной жизни, мы тотчас обвиняем его в шовинизме и требуем переделать среду, то есть разрушить памятники культуры, выразившие эту национальную идею все в тех же самых презрительно поименованных вами русских городах. Де, мол, все это матерний развалины, скучные даже для историков. Для каких историков? Для сочинителей сказки про пустопорожнюю голопятую Русь? Да, для таких сочинителей они скучны. Но для каждого русского, любящего свое отечество и его историю, они полны глубокого смысла и значения... - Успенский сцепил пальцы на колене и откинул голову. (…) - Мы осуждаем русский национализм, называя его шовинизмом за то, что он подавлял самостоятельность других народов, входивших в русскую империю. Успенский, устало прикрыв глаза, отвечал, будто самому себе: - Если кто-то и подавлял и ограничивал самостоятельность иных народностей, так уж не русский национализм, а самодержавие, его бюрократическая система, в которую входили не только русские люди. А где, скажите нам, какая правящая бюрократия не ограничивала самостоятельность народов? Это особый вопрос, не станем его касаться, иначе уйдем в глубокие дебри. - Он открыл глаза, выпрямился и в упор посмотрел на Ашихмина. - Я же говорю о русской национальной идее, о культурном призвании. Русская идея культурного призвания всегда была не привилегией, а сущей обязанностью, не господством, а служением. Посмотрите хотя бы на историю освоения Сибири, приобщения к русской культуре ее народностей. Вы заметите всюду необыкновенную жертвенность русских учителей, докторов, миссионеров. Конечно же, национализм, замыкающийся в своей исключительности, как в ореховой скорлупе, скуден и ограничен. Но идея национальности, понимаемая как культурная миссия, благотворна по сравнению с бесплодным космополитизмом. Люби все народы, как свой собственный! Вот что я вам скажу в ответ на ваши призывы разрушать русскую старину, русский быт и культуру. Успенский встал и прошелся по горнице. - Но как же увязать вашу любовь с классовой борьбой, с тем, что называется - поживиться за счет ближнего своего? - спросил Ашихмин, едко усмехаясь. - А это вам лучше знать, - сказал Успенский, останавливаясь. - Вы помогли тут позавчера поживиться койкому за счет одного ближнего. - А ежели без намеков? - вспыхнул Ашихмин. - Вам не нравится политика конфискации? А? Что? (…) - А вы уверены, что благо творите, выселяя стариков и детей под открытое небо? - В силу необходимости мы вынуждены расчищать дорогу для исторического прогресса. Не жалостью надо измерять наши дела, а величием поставленной цели. - Никакой великой целью нельзя покрывать бессмысленную жестокость. - Это вы классовую борьбу называете бессмысленной жестокостью? А? Что? - Ашихмин ярился, постоянно вскидывал голову, как бы с удивлением смотрел на застольщиков. "Отчего это они молчат?" - было написано на лице его. - Оставьте вы эти громкие слова - "величие цели", "классовая борьба"... - сказал Успенский. - Это не громкие слова, а назначение и смысл нашей жизни. Я приехал сюда не для того, чтобы кому-то мстить, а выполнять высокую обязанность. Обязанность моя, так же как и ваша, в данный момент заключается в том, чтобы сломить сопротивление кулачества в строительстве совершенного человеческого общества. Мы не сказки здесь рассказываем о загробном царстве, мы открываем глаза людям на грядущий мир всеобщего равенства и счастья, научно обоснованный. Построить такой мир - не огород загородить. Это надо понимать. В это верить надо! Великая цель не за углом. Путь к ней долог. Прогресс бесконечен. Во имя этого прогресса мы совершаем необходимую расчистку, убираем с дороги те препятствия, которые оставило нам классовое общество старого мира. И называть эту нашу, я бы сказал санитарную, работу бессмысленной жестокостью непозволительно и преступно! А? Что? Как вам это нравится? - Верить в загробный мир - глупо, а верить в рай земной - умно; говорить о боге, о бессмертии - неуместно, а о прогрессе человечества - необходимо. А ведь, коли разобраться, в сущности, это один черт получается, как говорил Иван Карамазов. И в том, и в другом случае необходима одна и та же отправная точка - вера. Что понимать под прогрессом? Царство всеобщей сытости - это одно. Социальную справедливость и нравственное совершенство - совсем другое. В нравственное совершенство, как и в царствие небесное, верить надо. Опять нужна вера. Вера на слово, наобум, ежели не в бога, так в человечество, ежели не в царствие небесное, так в прогресс. Если цель - прогресс, а прогресс бесконечен, как вы говорите, то для кого мы работаем? Что мы скажем тем, кто истощил свои силы в работе? Что после их смерти на земле будет лучше? И заставим других встать на их место и тянуть ту же лямку? Не я задаю вам вопросы, это Герцен спрашивал еще в прошлом веке, и никто не ответил ему. По нашему-то глупому разумению, люди страдали и боролись не даром, - они получили от Советской власти землю, право на собственное хозяйствование. И слава богу! Пусть стараются. Исполать! Так вас это не устраивает, вам спокойствия не дает ваша великая цель: отчего это она все еще маячит в туманном отдалении? Дай-кать мы ее приблизим, да так, чтоб всем чертям стало тошно. А кого считать чертями, это, мол, мы укажем. Вот и тычете перстом, как слепой Вий. Вчера вы изволили выбросить из дому двух стариков и четверых детей, якобы помешавших вашему победному шествию к намеченной цели. И теперь вот пришли к нам за одобрением. Но аплодисментов не будет. Мы не воюем с детьми. Если ваш так называемый прогресс требует невинных слез хотя бы одного замученного ребенка, то возвращаем вам билетик обратно. В построении такого прогресса мы не участвуем. И это было доказано давно. Но вы рассчитываете на короткую память. Нет! Мы ничего не позабыли. (…) - Как вы смеете! С чьего голоса вы поете? - Ашихмин стукнул кулаком об стол, вскочил с табуретки, сделался весь красный, глаза его бешено метались с Успенского на всех остальных, как бы требуя броситься на этого человека, связать его, скрутить и выбросить вон. Успенский тоже вскочил, так что табуретка отлетела от него, опрокинувшись с грохотом. - Я голоса взаймы не беру и свой голос не продаю! Готов доказывать где угодно, что вы совершили беззаконие. - Беззаконие? Я?! - Да, вы... (…) - Да вы!.. Вы правый либерал, жалкий последыш Бухарина. Кулацкий адвокат! Да вы опаснее открытого врага. Вы подтачиваете, как черви, революционный порыв рабочего класса, отравляете волю масс своим ядовитым сомнением, неверием в наши темпы, задачи, конечные цели... Да вы... - Я не последыш! - кричал и Успенский, перебивая задыхающегося от ярости Ашихмина. - У меня своя голова на плечах. Это вы потеряли головы. Вы, последыши Иудушки, кровопивца Троцкого. Сколько вас судили за перегибы? Но вам мало прежних голодовок? Новых захотелось! Лишь бы покомандовать! Лишь бы народ помордовать... Так запомните - даром это для вас не пройдет. Беззаконие - это слепой зверь; сегодня вы его спустили на крестьян, завтра он пожрет вас самих…» (23)
«Человек не может быть ни кирпичиком, ни винтиком, ни частицей целого. Человек - не средство для достижения цели, пусть даже общественно значимой. Человек сам есть цель. Каждая личность несет в себе особый и неповторимый мир. И не стричь всех под общую гребенку, не гнать скопом, а наделить правами, свободой, чтобы развивалась каждая индивидуальность до нравственного совершенства. В этом и есть конечная цель социализма…» - утверждает Успенский. Его независимость, как и у Бородина, выражается не в бунтарской вольнице, а во внутренней свободе, основа которой заключается в нравственной обязанности «не соучаствовать в торжествующей несправедливости». Этот древний закон личного неучастия во зле напоминал устами Костанжогло Н.В. Гоголь, проповедовал А.И. Солженицын в статье «Жить не по лжи». У Можаева выражает его Успенский.
«- А по мне хуже - так молчать. Видеть, как лютуют эти самозванцы, выбрасывают на мороз ни в чем не повинных людей, и молчать. - Успенский прикурил, пыхнул дымом и щелчком выстрелил в темноту красной спичкой. - Э-э, батенька! Наши слова, как свист ветра в голых прутьях, - шуму много, а толку мало. - Мне не столько важно было ему доказать, сколько себе, что я еще человек, я мыслю, следственно, я свободен. С минуту шли молча, наконец Юхно отозвался: - Да, вы правы. Так это-о, если нельзя сохранить свободу в обществе, то ее непременно следует утверждать в мыслях, в душе. Иначе - пиши пропало». (24)
О бессмысленности и беспощадности русского бунта писал Пушкин. Бунт, как и всякая стихия, обрушивается на все головы, не разбирая правых и виноватых, и первые, в итоге, страдают более вторых. Так и в романе Можаева гибнут в ходе восстания не Возвышаевы и Ашихмины, а честный и грамотный начальник милиции Омиров и учитель Успенский, спасающий жизнь сына Бородина, Федьки… И всё же, несмотря на разворачивающуюся трагедию, теплится в душе вера в лучший исход. Эту веру пронёс через всю жизнь Борис Можаев, этой верой пропитаны страницы его книг, эта вера передаётся читателю.
«- Кого больше любит бог, тому и страдания посылает... дабы очиститься в них и обрести смирение и разум. - Да, и я так думаю, - поднял голову Успенский. - Несмотря на все эти страдания, народ наш не пропадет; он выйдет из них окрепшим духовно и нравственно и заживет новой разумной жизнью. Все дело в том - сколько продлятся эти испытания...» (25)
«Мужики и бабы» были написаны в 80-м году. «С этим двучастным романом много и многолетне натерпелся он. «Новый мир» (Наровчатов) взял, обещал, тянул – снял. М. Алексеев («Москва») не взял с порога. Обратился Боря в «Наш современник» (Викулова), уже тогда как бы крепнущий бастион русского национального сознания. Неожиданно и там подвергся он жёсткой критике, тоже и «Наш современник» отказался печатать. (Задумаешься: ведь и Можаев такой же «деревенщик», как они, уж он ли не деревней жил? А был тут, знать, оттенок между ними: своё стояние за деревню Можаев не уклонял ни в какую идеологию.) 1-ю часть отважилось напечатать издательство «Современник» - при громких требованиях со всех сторон (московская писательская организация) рассыпать набор. На 2-ю же часть романа, с крестьянским восстанием, смелость нужна была и в «перестройку». Взялся и напечатал «Дон». «Не уступите?» - с надеждой спрашивал их Борис. Тогдашний редактор Воронов отвечал исторической формулой: «С Дона выдачи нет!» (26)
Примечания:
|